Так называли артиста, родившегося на Байкале
Смею заверить, что во всех источниках, с которыми мне довелось ознакомиться, — а это Интернет, справочники, энциклопедии, публикации в прессе, воспоминания русских эмигрантов и т.д., — всюду называется единственное и безоговорочное место его рождения — в поезде, близ Иркутска, точнее — у одной из прибайкальских станций...
Вот одна из немногочисленных, но характерных цитат: «История жизни Рудольфа Нуреева начинает невероятный, хорошо задуманный и лихо написанный роман. Начиная с самого его появления на свет в поезде, что шел по берегу Байкала, мимо станции Раздольное, увозя на Дальний Восток, к месту службы политрука Советской Армии татарина Хамета Нуреева его жену, домохозяйку, башкирку Фариду, трех дочерей и... долгожданного новорожденного сына».
По воспоминаниям его родных, в момент рождения Рудольфа они подъезжали к Иркутску.
И далее, уже в другом издании: «Возможно, укачивающий стук колес, свист и грохот быстро бегущих локомотивов столь дороги моему сердцу по еще более глубокой, более таинственной причине — ибо я появился на свет под звуки нервной, дребезжащей колыбельной, которую поет поезд.
на самом деле родился в поезде — 17 марта 1938 года. И хотя первые годы жизни не оставили в памяти особого следа, мне нравится размышлять о моем рождении. Как лирическому, романтическому танцовщику, мне приятно думать о том, что первое же мое появление на самой первой сцене было столь романтичным. Я всегда считал свое рождение наиболее романтическим событием в жизни.
В тот момент, когда я родился, поезд мчался вдоль берегов озера Байкал, неподалеку от Иркутска. Моя старшая сестра Роза в Иркутске побежала на вокзал давать отцу телеграмму.
Я так люблю вспоминать обстоятельства своего рождения потому, что в них во многом отразилась вся моя жизнь. Разве не символично, что я родился в пути, между двумя станциями (Слюдянка и Иркутск). Видимо, мне суждено было стать космополитом. С самого начала я был лишен чувства «принадлежности». Какую страну или дом я мог назвать своими? Мое существование протекало вне обычных, нормальных рамок, способствующих ощущению постоянства, и оттого мне всегда представлялось, что я родился гражданином мира!»
Тематика, символика, образ железной дороги, беспрестанного пути прошли сквозной линией через всю жизнь Нуреева и трепетно, с любовью отражены им в книге «Автобиография», наиболее характерные цитаты из которой я считаю своим долгом привести. Это слова, небезынтересные для иркутян, — об их выдающемся земляке. Они могут послужить первоначальным импульсом, поводом для более глубокого интереса к личности человека, появившегося на свет в наших местах.
А также — сподвигнуть, подтолкнуть людей ответственных как-то запечатлеть, увековечить память знаменитого артиста.
«А еще отсюда открывается прекрасный вид на железнодорожный вокзал. Я просиживал на своем холме часами без движения. В течение нескольких лет я ходил туда ежедневно и просто смотрел, как поезда медленно трогаются с места и постепенно набирают скорость. Мне нравилось представлять, будто эти колеса уносят меня куда-то.
Я был больше привязан к вокзалу, чем к школе или даже дому. Позднее, уже в Ленинграде, перед тем как начать работу над партией в новом балете, я частенько отправлялся на вокзал и просто смотрел на поезда, пока мне не удавалось почувствовать, что движение стало частью меня самого, а я — частью поезда. Это каким-то образом помогало мне в танце, хотя не могу точно сказать, как именно...
...Мне стукнуло семь. Приближалось время, когда подлинная и единственная страсть овладела моей душой, телом и всей жизнью...
...Тогда (ребенком я часами просиживал у радио) я и не предполагал, что вскоре музыка породит единственную страсть, переполняющую мою жизнь, — танец...
...С этого незабываемого дня (дня первого посещения Уфимского театра оперы и балета, спектакля «Журавлиная песнь» с несравненной Зайтуной Насретдиновой, народной артисткой СССР. — Авт.), я не мог думать ни о чем другом. Я был одержим. Именно тогда родилось мое непоколебимое решение стать балетным танцовщиком. Я услышал «зов». Наблюдая в тот вечер за танцовщиками, восхищаясь их сверхъестественной способностью преодолевать законы равновесия и тяготения, я все больше уверялся в том, что родился, чтобы танцевать...
...Положа руку на сердце могу сказать, что примерно лет с восьми я был одержим балетом. Подобно тому, как человек, поглощенный одной страстью, становится слеп и глух по отношению ко всему остальному, так и я ощущал в себе настоятельную, безумную потребность танцевать, и ничего больше. Это был мой мир.
...Поскольку дома мне запретили танцевать (военный отец мечтал о военной карьере единственного сына, говорил: «Ну хорошо, пусть не военный, но — балетный?! Никогда!»), — а бросить танец я, естественно, не мог. Я был вынужден начать жизнь, полную лжи. Мне постоянно приходилось изобретать предлоги, чтобы ускользнуть из дома на репетиции и занятия танцем.
Жизнь сводилась к бесконечной борьбе, чтобы обойти препятствия, стоявшие между мной и танцем; приходилось постоянно сражаться».
Он занимался в балетном кружке при Дворце пионеров. Педагог в записке родителям писала: «Он танцует даже на лестничных площадках...»
Его первый педагог по хореографии, экс-солистка знаменитой труппы Сергея Дягилева Анна Удальцова, настаивала: «Деточка, ты просто обязан учиться классическому танцу. У тебя прирожденный талант, и ты должен поступить в училище при Мариинском театре...»
С первой попытки Рудольфу не удалось уехать на учебу — у отца просто не нашлось необходимых двухсот рублей — это была стоимость железнодорожного билета из Уфы в Ленинград (опять эта железная дорога!).
Вторая попытка удалась, с пересадкой в Москве. «В тот раз (впервые он был в Москве в малолетнем возрасте после Владивостока) столица произвела на меня впечатление гигантского вокзала».
Нуреев обратил внимание на совпадение цифр-дат: родился 17 марта, 17 августа выехал из Москвы в Ленинград. Также не упустил следующий факт: «Школа и театр были основаны, когда Санкт-Петербургу было всего 36 лет, — в 1738 году, ровно за два столетия до моего рождения».
Нуреев вообще придавал особое, мистическое значение совпадениям, символике фактов, событий, чисел.
После конкурсного просмотра член приемной комиссии Костровицкая высказалась: «Молодой человек, из вас получится блестящий танцовщик — или полнейший нуль. Скорее всего, из вас ничего не выйдет». Что это было? То ли отсутствие профессионального чутья, недальновидность и ошибка, то ли провокация гордыни?..
Тем не менее «25 августа 1955 года в возрасте 17 лет я поступил в этот заветный храм танцевального искусства — Вахтанговское хореографическое училище».
Директор училища Шелков тоже оказался недальнозорким, оскорбив и унизив Нуреева клеймом «провинциальное ничтожество».
В Ленинграде его звали Рудиком. И это, возможно, одна из причин, почему он впоследствии бежал из Ленинграда. Он знал, что в Кировском театре очень надолго останется Рудиком, то есть вечным мальчиком, вечным учеником, привычной глиной в руках старейших ваятелей-хореографов или педагогов, этих властных, влиятельных и допотопных корифеев. А он уже чувствовал себя Рудольфом. Честолюбец, гордец, он рано примерил к себе это великокняжеское имя.
Тщеславный, мятежный, строптивый, вспыльчивый, дикий, своенравный, диктатор — это все он, Нуреев. При этом он невероятно трудоспособен и восприимчив.
«21 мая 1961 года — гастроли Кировского в Париже. До выступления Нуреева в прессе ни строчки. После — уже была исполнена партия Солора в балете Минкуса «Баядерка», любимая у Нуреева, — заголовки: «Кировский обрел собственного космонавта — Рудольфа Нуреева!»
«Для меня идеал состоит в том, чтобы каждое выступление было первым, как для меня, так и для публики».
Жарким утром 17 (!) июня 1961 года на летном поле аэродрома Ля Бурже он решил остаться на Западе, стать свободным, космополитом. Птица должна летать.
Он жалел о коллекции балетных туфель, трико и парике, которые покупал на гастролях и которые улетели с багажом на следующие выступления в Лондон. Но дальше в своей книге он пишет:
«А больше всего было жаль первой покупки в Париже — прекрасного игрушечного электрического поезда, символа моего восхищения железной дорогой, поездами, окутанными дымом вокзалами, манящими обещаниями горизонтов и тайн иной жизни».
Я представляю, многим детишкам нравятся волшебные поезда. Сам был таким. Но не многие в поездах рождаются. И тем более не все становятся артистами с мировым признанием.
Попав в Европу, Нуреев стал жить как князь, одеваться как князь, приобрел во владение собственное княжество — маленький остров в Средиземноморье. Все это слегка напоминает роман-сказку «Граф Монте-Кристо»... Превратил в собственное княжество и театр «Гранд-Опера», ставший при нем неприступным феодом, крепостью, бастионом, заносчивой институцией на средневековый лад, где тем не менее осуществлялся прорыв в сторону современных веяний в классическом балете.
Но царил здесь именно он, князь танца Рудольф Великолепный. И демонстрировал стиль, который в наши балаганные и постбалаганные времена казался и архаичным, и провидческим. Роскошная техника виртуоза былых времен сочеталась в нем с техникой будущего, техникой почти что математической. И все его подвиги, — а другим словом его вариации и не назовешь, — никогда не казались ни трюком, ни фокусом, ни ловкой игрой, а были непосредственным выражением бешеного темперамента и стальной воли.
С лицом кондотьера, с решимостью конкистадора он выходил на сцену, чтобы завоевать пространство и укротить зрительный зал, чтобы подчинить своей воле разбегающуюся по сторонам энергию спектакля.
Если попытаться определить одним словом доминанту нуреевского танца, его внутренний смысл, его скрытый императив, то этим словом будет слово «владеть». Его танец по-зевсовски стремился овладеть чужой психикой и чужой плотью. Старинное балетное амплуа — владетельный князь, обычно выпадающее на долю артистов миманса, стало для Нуреева его личной судьбой, определило характер его поз и жестов.
Конечно же, парижский театр «Гранд-Опера» давно, после Лифаря 30-х годов, не имел такого лидера и такого премьера. Успех его был оглушительным, но главным образом — среди дам. Мужчины-балетоманы привыкли видеть в труппе Парижской оперы на первых ролях балерин, а потому начался ропот недовольства. Назревал скандал, тем более что Нуреев не очень скрывал достаточно пренебрежительное отношение к женскому танцу.
«Успех постановки Нуреевым «Лебединого озера» в Венской опере был столь ошеломляющим, что после премьеры публика не отпускала его и Марго Фонтейн со сцены более часа, а занавес поднимался 89 (!) раз. Такого балетный мир не знал еще никогда».
«Дуэт Нуреев и Фонтейн — самый романтичный дуэт нашей эпохи. И наиболее художественно законченный, стилистически современный».
«Уже в Париже при работе над Голубой птицей в «Синей птице» я хотел изобразить не птицу, медленно взмахивающую крыльями, как бы парящую в некоем грациозном, но бесцельном полете, как делали все танцовщики в Кировском до меня, а птицу, обуреваемую сильным желанием вырваться на свободу, улететь и увидеть мир... Я хотел показать птицу, искушаемую таинственным соблазном: мне пришлось выдержать долгую и тяжелую борьбу со старой гвардией Кировского, когда я пытался убедить ее, что моя интерпретация Голубой птицы — новшество, имеющее право на существование».
«Настоящее искусство определяется использованием малых средств для выражения больших чувств и идей, а не наоборот».
«Меня привлекают большие, широкие шаги, прочерчивание сквозной линии в пространстве. Этим мой стиль отличается от стиля большинства танцовщиков».
«Полагаю, здесь дело не в тренинге, а в особом темпераменте, личном подходе к танцу. Многие танцовщики склонны к самолюбованию, а я пытаюсь всего себя отдать публике, до предела наполнить рамки балета внутренней жизнью и чувствами».
«Некоторые танцовщики чувствуют себя наилучшим образом на маленькой сцене, которая подобна футляру для драгоценностей, служит прекрасной декорацией для миниатюрных шагов и движений. В самом деле, то, что они делают, по точности и отполированности деталей зачастую напоминает ювелирную работу, хотя в целом им не хватает щедрости и размаха. На маленьких сценах невозможно легато, прыжки, широкие волнообразные движения. Лично я чувствую себя на маленькой сцене как птица с обрезанными крыльями».
Его ноги были застрахованы на сумму 190 тысяч фунтов стерлингов.
В начала 80-х австрийцы пожелали видеть его гражданином своей страны. В его адрес обрушивались восхищенные комплименты, эпитеты, но для него это означало одно: он лишь подошел к тому, что замыслил.
Билеты на его спектакли раскупались мгновенно, едва театры открывали кассы. Среди его друзей были первые и легендарные в мире: балетмейстеры Ролан Пети, Пьер Лакотта, Морис Бежар; актер Жан Маре; миллионерша Клара Сэнт. Известнейший модельер Ив Сен-Лоран посвятил ему в 1993 году свою коллекцию.
Но вернемся к нашим берегам. Никто «за» и «для» него не придумывал Байкал, станцию Раздольное. С чего бы это? Даже западным переводчикам такая фантазия не пришла бы в голову. Между тем «Автобиография» трижды издавалась на Западе и, как минимум, раз — в России.
Жаль, что иркутскому поэту Геннадию Гайде, как и многим иркутским краеведам и историкам, так и не удалось никого вдохновить идеей установить мемориальный знак на железнодорожном вокзале. Ведь это не может не вызывать интереса: как степную татаро-башкирскую многодетную семью с новорожденным четвертым ребенком занесло под Иркутск. Даже по дороге на восток... Впрочем, чего удивляться, в те Варфоломеевские годы не то что маленьких детей, — семьи, селения, города и народы загоняли туда, где Макар телят не пас...
Нет, не случайно все это, не просто так. Родился бы он в Ленинграде или на какой-нибудь таежной станции — наверняка не забыли бы. И создали бы целую инфраструктуру для путешествующих и поклонников.
Все же Нуреев вдохнул первый раз именно свежей и чистой байкальской прохлады. И выдохнул ее в Париже. С таким самосожжением долго не горят и на долгие дистанции не бегают.
Правительство области и администрация Иркутска думают, заботятся о создании благоприятного позитивного имиджа города и области. Но как это сочетается с игнорированием столь знаменательного факта? Многие города, которым не столь повезло с историей, не упустили бы возможности гордиться таким земляком.
Известно место захоронения Рудольфа Нуреева — кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Неподалеку от могил Сержа Лафаря, ученика Дягилева, руководителя «Гранд-Опера»; от поэта и барда Александра Галича; писателя Ивана Бунина; поэта Мережковского, художников Добужинского и Коровина.
Его надгробье покрыто роскошным, тяжелым восточным ковром, который кажется настоящим. Таковым было его завещание, в котором он весьма последовательно прописал весь похоронный ритуал. Отходную — скорбный хорал Баха — пела сама Джесси Норманн. Над гробом звучали стихи Пушкина. Разумеется, по-русски. За гробом шли десятки тысяч человек.
Но нет места рождения Нуреева. Во всяком случае, не зафиксировано. Как-то это не по-человечески. Несправедливо.
Его имя носят хореографическое училище и театр в Уфе; фестиваль балета в Казани; одно из красивейших мест в австрийской столице называется Rudolf-Nurejew-Promenad.
А не пора ли признать факт рождения Рудольфа Нуреева под Иркутском, зафиксированный в его «Автобиографии», нам, иркутянам, и отнестись к этому как к завещанию? Отнестись — как подобает?
Владимир Березин, специально для «Байкальских вестей»

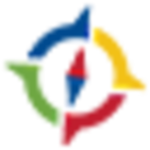 Погода
Погода
 Афиша Иркутск
Афиша Иркутск

